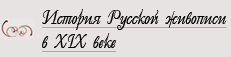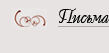Письма к Сергею Николаевичу Тройницкому
Краткая справка о Сергее Тройницком
Сергей Николаевич Тройницкий (1882—1946?) — известный геральдист и искусствовед, один из основателей журнала «Старые годы».
10 февраля 1926 г.
Дорогой Сергей Николаевич,
Как видите, я еще жив: scribo ergo sum. [Пишу, следовательно, существую (лат.).] Но я молчал так долго по двум причинам: мне было отчасти конфузно за свое здешнее застревание, а кроме того все казалось, что мы вот-вот и тронемся в обратный путь. Это ощущение не покинуло нас и сейчас, хотя отсрочка моего спектакля заставила нас застрять по крайней мере еще до пасхи. Нарушаю же я ныне свое молчание по просьбе милой и очень несчастной Марии Петровны Паринсовой, которая мечтает попасть к нам в Эрмитаж... От кого-то из наших коллег она услыхала, что в гравёрном отделении предстоит огромная инвентарная работа, для чего нужны лишние головы и руки. Тем и другим она обладает в полной мере, и я могу Вам ее рекомендовать с наилучшей стороны. Кроме того, это человек живой, расторопный, и я уверен, что она могла бы принести делу пользу. Испробуйте ее! Мне Вы этим окажете большое одолжение, ибо меня огорчает судьба этой милой женщины, которую я знаю чуть ли не с (ее) детства и которая всегда пользовалась моей симпатией. Не откажите!
Впрочем, раз я уже нарушил свой мютизм [Немота (франц. mutisme).], то и продолжаю о собственных делах. Но что сказать нового на эту тему? Пришлось бы повторить все то, о чем я Вам говорил в августе и о чем писал. Никаких перемен не намечается. Дорогой друг, Вы не удосужились мне ответить на мое пространное письмо, и я вполне это понимаю. А между тем мне было бы весьма полезно получить с берегов Невы и особенно от Вас более определенную Aufenunterzug. Правда, живется мне здесь недурно и мои дела идут так, как я желаю, чтоб они шли. Но вce же по своему внутреннему смыслу это есть сидение на жердочке и, в конце концов, такое сидение становится деморализующим. Ich bedarf eines Aufenunterzug und einen freundliches Ermahnung [Я нуждаюсь в приглашении и дружеском призыве (нем.).] . (немецкие слова лезут под перо, ибо я сейчас занят Гёте)
Париж.
12 марта 1926 г.
Предыдущие строки были написаны месяц назад, и я все откладывал их посылание, т. к. чувствовал, что мне необходимо Вам написать другое в тоне, более соответствующем моему душевному состоянию. Да и на сей раз я посылаю это письмо только из-за того, что я там говорю о достойной всякого участия Марии Петровне. Кстати, исчерпывающие сведения о ней может вам дать Марк Дмитриевич …[Mарк Дмитриевич Философов, ученый секретарь Эрмитажа.] Сегодня же я хочу с Вами побеседовать совершенно глазу на глаз” и вне всяких посторонних сюжетов.
Впрочем, все сводится к вопросу о моем возвращении. Вопрос этот ставится не в смысле моего желания или намерения, а в смысле того, могу ли я вернуться? И опять-таки вопрос этой “возможности” исключительно материального порядка. Я навел справку, и мне сообщили, что мне полагается жалования 80 р. (!). К этому возможно, что приложится еще рублей 100 “золотого дождя”. Но и это при безумной дороговизне так ничтожно, что я никак не могу решиться бросить все свои дела здесь и пуститься в нечто подобное весьма рискованной авантюре! Вот я Вас и спрашиваю (в который раз! и сколь тщетно!!), неужели не была бы какая-либо возможность меня устроить иначе? Я хочу, я рвусь работать на родине, но я не в состоянии совершить шаг явно безрассудный и такой, безумие которого первым долгом отзовется на той же работе. Одно из двух — или я действительно нужен и тогда следовало бы меня обставить минимумом жизненных благ, чтоб я мог всецело отдаваться тому труду, для которого я бы вернулся и в котором выявляется моя нужность. Или я не нужен и тогда мне благоразумнее оставаться как можно дольше здесь, где меня оценивают как художника и дают соответственно возможность существовать. Скажу еще и так: ведь я достаточно дал и в смысле направляющих идей, и в смысле личного участия, чтоб иметь сознание своего права на какое-то признание (и даже на какую-то “признательность”) со стороны своей родины. Так как Вы сами, дорогой друг, всегда поддерживали во мне это самосознание и поддерживали (я в этом убежден) совсем искренно, то я и обращаюсь к Вам со своим докучливым недоумением, питая надежду, что Вы и из дружественных соображений и из уважения к моей деятельности пожелаете (мне помочь выбраться снова в такие условия, которые я мог бы считать нормальными. И первым признаком нормальности была бы, разумеется, жизнь у себя дома, в своей атмосфере, на пользу культуре, для которой я уже немало сделал...
Убедительно прошу Вас на сей раз мне ответить. И неужели же нельзя Вас в нынешнем еще сезоне ждать сюда? Не могу перестать досадовать на то, что наша последняя встреча произошла при столь неудачливых обстоятельствах. Как иначе все бы обернулось, если бы Вы не застали меня тогда в самом разгаре кризиса. Кстати сказать, “Наполеон” снова возродился, и меня усиленно приглашали быть художественным директором, однако я благоразумно уклонился от этой чести, слишком я пресытился в прошлый год пошлостью и нелепостью этих людей и больше всего самого Ганса, который является французским вариантом Хохлова — c'est tout dire. [Этим все сказано (франц.).] Сейчас я занят новой постановкой для Иды (“Imperatrice aux Rochers” отложена до осени и, вероятно, пойдет уже без меня) и иллюстрациями. Особенно увлечен таковыми для “Les souffrances du jeune Werther”. Не подумайте, однако, что это произведение Вольфганга Гёте — нет, это род этюда-повести ныне гремящего (и действительно очень тонкого писателя) Andre Maurois — на тему о том, как был сочинен знаменитый роман.
Итак, умоляю ответить. Ваше молчание я сочту на сей раз просто за “деликатный” намек на то, что Вам опостылело со мной общаться. Это было бы для меня весьма огорчительной неожиданностью. Хочу думать, что все же ожиданный ответ явится и я так или иначе буду утешен им. А потому обнимаю Вас и желаю всего самого доброго и приятного. Марфе Андреевне прошу передать наш сердечный привет.
Любящий Вас Александр Бенуа
Париж.
1 апреля 1926 г.
По странному нерадению или, вернее, в силу всяких психологических переживаний и второе письмо, которое я все же отсылаю, хотя оно и написано 12 марта, пролежало у меня на столе до сегодняшнего дня. Но теперь откладывать беседу с Вами, дорогой и бесценный друг, нельзя! Я получил от Стипы письмо, настолько меня перебаламутившее, что я в течение целой недели просто не в состоянии был собрать свой мысли, да и сейчас пишу Вам в величайшем душевном смущении.
Итак, откладывать дольше мое возвращение как будто невозможно. Иначе одна плата моей петербургской квартиры уподобится почти всему моему здешнему заработку!!... Получается такая альтернатива — или возвращаться и, имея квартиру по довольно уже несоразмерной с заработком цене, влачить дома весьма мизерное существование. Или же оставаться здесь ввиду более приемлемых материальных условий, но лишиться квартиры и всего того, что в ней находится, т. е. всех своих работ, всего, что я собрал для них же, своей библиотеки и т. д. Где же выход? Разумеется, знай я, что и на родине я могу жить скромно, но с достаточным обеспечением, я бы без дальних раздумий вернулся и вы увидели бы меня прямо на ближайших днях! Но т. к. я этого не знаю, то мне просто слишком жутко ехать претерпевать недостойную и позорную нужду! Вот я и плaчусь! Пока я все же считаю, что еду и не далее как недели через 3, так чтоб быть около 25, 27 апреля на берегах Невы. Но хватит ли куражу в последнюю минуту, в этом я вовсе не уверен. Я потерял сон и аппетит, до того этот вопрос меня мучает и терзает . И вот я Вас умоляю, чтоб Вы мне помогли. Быть может, Вы бы придумали тот или иной плюс для моего бюджета? Если же ничего такого не предвидится, то помогите спасти мои работы, мои книги, мои собрания! Ведь они имеют большой интерес не только личный. Я не перестану надеяться, что наши экономические условия еще изменятся и что, если не сейчас, то через некоторое время я смогу жить на родине. И неужели же тогда я окажусь перед полным развалом всего своего прошлого?! Милый Стипа преподал мне очень остроумные советы, и я попробую ими воспользоваться. Но все же вполне рассчитывать на то, чтоб можно было отсюда что-либо сделать, нельзя. А главное, я сам не решил, как мне быть! Тут и нужен Ваш совет, Ваш ясный взгляд, Ваше бодрое слово!... Поверьте, все написанное не “сплошная истерика”. Вы же знаете, что моя природа обратна слепой истеричности. Если же на сей раз мои слова действительно носят характер несколько “патетический”, то ведь причин на то достаточно... Может быть, это иллюзии, но мне продолжает до сих пор казаться, что Вам хотелось бы меня снова получить в верные и дружеские сотрудники по делу нам обоим одинаково близкому. Я и рассчитываю на то, что именно Вы что-нибудь придумаете и сделаете <...>
Буду теперь со жгучим нетерпением ждать от Вас ответа, какого-либо ответа Пусть он даже будет совершенно неутешительным, лишь бы получить от Вас то, в чем я, во всяком случае, увижу слово дружбы! Напишите мне хоть пару строк сегодня же.
Душевно преданный Вам Александр Бенуа
Париж.