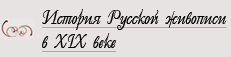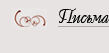Письма к Евгению Евгеньевичу Климову
Краткая справка о Евгение Климове
Евгений Евгеньевич Климов (8 мая 1901 года, Митава, Курляндская губерния, Российская империя — 29 декабря 1990 года, по дороге из Монреаля (Канада) в Покипси (США) — русский латвийский живописец, график, мастер изобразительного искусства, иконописец. Автор многих значимых произведений иконной живописи.
Март 1947 г.
...В виде “новинки” здесь сейчас показывают Ван-Гога, представленного с необычайной полнотой. Толпа валит валом, даже “очередь” образуется перед входом в “Orangerie” — под дождем и на холоде. Но меня как раз это злит и даже как-то отпугивает. Может быть, еще и то, что я как-то переел за долгую свою жизнь всего подобного. С другой стороны, столь откровенное проявление глупого стадного чувства только бесит. Те самые люди, которые еще недавно издевались над его искусством и которые отравляли ему жизнь, теперь с ума сходят от (предписанного) восторга. Безумие того же порядка, как культ, которым продолжает удостаиваться Пикассо и вся прочая нечисть. Противно — до тошноты. Уж больно все как-то свихнулось, полезло в сторону, сошло с рельс.
<…> а все же здесь (и помимо снобизма) есть что посмотреть, чем насладиться, на чем поучиться и освежиться. Приезжайте. Вместе прокатимся в Версаль, погуляем по Лувру. Да и некоторые выставки интересны. Тот же Ван-Гог, которого и я не могу не уважать, в котором светится подлинная художественная душа.
Париж.
Декабрь 1947 г.
...У нас здесь гостит чудесная выставка сокровищ венских музеев. Не все лучшее прислано (досаднее всего, что отсутствуют все самые интересные картины моего архилюбимца Питера Брейгеля, нет и всех картин особенно большого формата), но и за то спасибо, есть чем понасладиться. Что же касается наших двух заграничных пребываний, то оба оказались необычайно удачными. И в Англии (где мы жили в деревне близ древнего городка Cirencester с прекрасной готической церковью) и в Италии, где мы часть времени провели в Милане, а часть в горах Тироля (в Меране). Я много работал как с натуры, так и для театра (исполняя заказ для — постановка “Belle in Maschera”) [“Бал-маскарад” (итал.), опера Дж. Верди], и именно такая непрерывная занятость после непрерывной и бестолковой суеты парижской жизни послужила мне наилучшим отдыхом. Но боже! до чего пострадал Милан от бомбардировок! Треть города разрушена. Однако итальянцы молодцы. Какая кипучая деятельность, сноровка и талантливость. Работы по восстановлению идут полным ходом, а церкви (в общем скорее пощаженные) уже и починены и патинированы так, что часто все признаки поранения скрыты. Сейчас я снова занят работой для театра — для парижской “Оперы”. Повторяю (в который раз!) своего “Петрушку” (с вариантами) и надеюсь увидать его на сцене в наступающем году. <...>
Париж, 1947 год.
Декабрь, 1948 г.
...Вы снова спрашиваете меня о том... (как) представляется мне взаимоотношение русской и западной живописи. Ответить на это не так-то легко. Я отнюдь не принадлежу к тем, кто даже при известной положительной оценке смотрит на русское искусство как-то свысока. Но я и далек от какого-то исключительного поклонения ему. Вообще же во мне как-то укладываются самые, как будто, враждующие между собой симпатии. Это мне свойственно — это всегда было так, — это и легло в основу программы всего нашего “Мира искусства”. Отсюда возможность совмещения поклонения произведениям “мирового значения” и какого-то “нежного признания” весьма многих отечественных художников. В частности, я продолжаю быть благодарным Сурикову за те эмоции, которые я испытал перед его картинами. Однако я никак не могу согласиться с тем, чтобы, признавая мощь Сурикова, считать персонажи Менцеля “кукольными”. Хорош и поражает своей мощью Суриков, в его картинах и в самой “корявой” живописи его сказывается нечто стихийное. Но и от необъятного в своем разнообразии и столь всегда острого и столь всегда захватывающего художества Менцеля воет своего рода титанизмом. Творения Менцеля: картины, рисунки, гуаши, исторические иллюстрации и т. д. с первого же моего знакомства с ним (еще в конце 1880-х годов) остались для меня неисчерпаемым источником наслаждений. В нем живет подлинная вдохновенность, а это и есть то, что является самой сутью искусства. И нужды нет, что многое у Менцеля чисто по-немецки грубовато, plump (ведь и Кранах, и Балдуин, и сам Дюрер бывали “чисто по-немецки” безвкусны), все же это все проникнуто художественным трепетом. За редчайшими исключениями, Менцель никогда не бывал скучен, пуст...
Впрочем, comparaison n'est pas raison [Сравнение — не доказательство (не довод). (Франц. пословица).], и лучше, для души спокойнее, не делать выбора, не отбрасывать одно в угоду другому, а совмещать все хорошее, все истинное и только опасаться лжи, притворства, всякого мудрствования лукавого … как раз этими лживыми потугами на гениальность изобилует наша эпоха и от этого становится все скучнее и скучнее жить на свете...
1948 год, Париж.
Май и июнь, 1950 г.
…Современные люди, особенно молодые, просто разучились глядеть, не мудрствуя лукаво, и получать личное удовольствие через вхождение в контакт с данным произведением непосредственно. До чего все заврались, запутались, ошалели (годами длящаяся ошалелость, с малых лет воспитываемая)!
Сплошное царствование Голого Короля и тех шарлатанов, которые его облекли в несуществующие ризы! И до чего же все опошлено, испоганено, сколько жемчуга затоптано свиными копытами. Тошнит от всего этого!.. Здесь в “Столице Столиц” не лучше. Мразь, туман. Этот туман, пожалуй, отсюда и ползет и окутывает, отравляет весь мир. Вероятно, “так надо” для того, чтобы все насквозь прогнило. И до чего же это скучно...
Занят сейчас повторением “своих исторических фантазий”: “Выходом Екатерины и “Парадом при Павле”. Но кому это нужно? Кому теперь нужно все то, что питало, радовало, волновало нашу молодежь? И ей-же-ей, те волнения, которые мы испытывали когда-то... никак не могут идти в сравнение с теми, какими нынче питается молодежь, быть может, по-прежнему и алчущая свежих и радостных впечатлений, однако вместо животворящей пищи получающая одни щебни, песок и пыль. <..>
Париж.
Ноябрь, 1950 г.
...Замотался!! За это время мы успели побывать (и даже пожить) в Италии (отчасти в Милане, отчасти даче” — в Бергамских — о сколь прекрасных Альпах), я состряпал две довольно сложные постановки (“Травиаты” и “Вертера”), немного поболели, немного и пофланировали. И вот, оглянуться не успели, как зима снова накатила, зима, впрочем, до сего дня удивительно теплая (на севере Франции), довольно сухая.
Работа над “Вертером” не сразу далась мне (я не такой поклонник Массне), но затем постепенно взял верх Гете, и я с увлечением создал как все эти “наружные” декорации, так и обе “комнаты”. Вы, вероятно, заметили мою слабость к старой Германии, и мне даже кажется, что Вы ее чуточку разделяете. А тут и выдалась мне возможность в мыслях (увы, не наяву) погулять по городу Wetzlar'y, вообразить себе его тесные улички, его церкви, его уютные домики... Я даже выбрался за его стены и посетил (все в воображении) тот, стоящий в лесу домик папаши Fraulein Lotte Buff — знаменитой героини романа. И не странно ли то, что судьба меня привела туда, где я уже бывал (все в воображении) в 1924 году, когда создавал иллюстрации к книге Andre Maurois “Les souffrances du jeune Werter”. [Андре Моруа. “Страдания молодого Вертера” (франц.).] И это возвращение оказалось весьма приятно. Теперь остается еще сделать костюмы, иначе говоря, создать самые типы действующих лиц оперы, которые, в общей характеристике, не отличаются от героев романа. <...> Нет ни малейшей гарантии, что при следующей мировой войне (которая уже готовится разразиться) не погибнет еще и то, что чудом осталось после первых двух. <...>
Париж, 1950 год.
Февраль, 1951 г.
выставке “Голландского пейзажа” я уже побывал четыре раза и еще собираюсь. При этом как-то особенно досадно, что выставка должна будет скоро закрыться, а чудесные картины, собранные на ней, разбредутся по своим местам. Ничего более душистого, искреннего, “точного” по чувству и настроению, словом, ничего более отвечающего самому благородному вкусу, человечество во всякие времена не создавало! Какие Аверкампы, Рембрандты, Хоббемы, Питер де Хоохи и т. д. Перед пляжем Адриана ван ден Вельде или его же “Зимкой” хочется плакать, до того это трогательно! Наслаждаясь этими картинами, мне почему-то пришел на ум наш Петр Алексеевич. Воображаю, как его должны были поразить, после своей дикой, суровой Московии, эти “тихие”, такие милые, застенчивые и все же такие исполненные сильного чувства картины. Недаром сам юный царь (в шкиперском наряде) просиживал на аукционах и покупал этих “маленьких голландцев”. И какое же он им построил впоследствии чудесное хранилище в своем “голландском” домике, на берегу Финского залива — в Монплезире! Сказать кстати, на днях меня уверяли, что этот дворец Петра спасен. Правда, стоявшие в нем с 1941 по 1943 год итальянцы сожгли в качестве топлива все, что можно было сжечь, иначе говоря, всю ту деревянную обшивку стен, которая и служила обрамлением целой галерейке голландских картин, но нашлись средства, нашлись и сведущие специалисты, которые по существующим документам восстановили все прежнее <…>
Париж, 1951 год.
Январь, 1952 г.
Я решил вообще больше не выставлять. А причина тому слишком глубокая и заключается в убеждении, что это совершенно бесполезно, что мое искусство сейчас никому не нужно. Да и не только мое, а вообще все искусство нашего круга идей, чувства, мироощущения и т. д. Все, что нам представлялось и представляется ценным в художественном творчестве, что мы любили в душах близких нам по духу художников и в чем мы видели некое духовное объединяющее нас родство, теперь объявляется сущим вздором. <…> Все, что требует внимательного, любовного подхода, что говорит о прелести жизни (и хотя бы в ее драматических и трагических формах), а также в чем художники любили высказывать свое мастерство в передаче видимости и т. д. — во всем этом ныне никто ничего не смыслит и просто этим не интересуется. И чем тоньше, изысканнее произведение искусства, тем более оно кажется устарелым, ненужным, скучным. Самое же мастерство вызывает прямо какое-то отвращение. Напротив, чем грубее, глупее, “корявее” беспомощное творчество, тем более гарантий, что оно найдет отзвук в сердцах и в глазах тех современных людей, которые вообще еще готовы терять время на смотрение на художественные произведения — картину, рисунок, статую… Ничего тут не поделаешь. Словом, искусство, как я его понимаю, “отжило”. Некоторое (очень слабое) утешение я пробую находить в надежде, что “когда-нибудь люди к этому нашему вернутся”. <…> Каждый год, на рождение моей жены, я подношу ей по альбому своих акварелей (штук 25 — 30 в каждом), посвященному какому-либо из наших минувших “пребываний”. Имеются уже альбомы С -Петербурга, Петергофа, Царского Села, Гатчины, а также Рима, Венеции, Лугано. Ныне я ей поднес альбом, как раз посвященный русским дачам, и вот, работая над этими акварелями, я как-то особенно углубился в своих воспоминаниях в то, что было столь милого как раз и в самых жалких из этих российских с их садиками, забориками, крылечками, крытыми балконами. <…>
1952 год, Париж.
Декабрь 1953 г.
…Недавно я устроил свою выставку, не устояв перед настойчивым и весьма лестным предложением хранителей декоративного отделения Лувра. Выставка маленькая — всего 41 акварель (пополам — театральные работы и этюды с натуры, главным образом interieur'ы) и занимает она очень небольшую залу, однако, несмотря на почти полное замалчивание (продажной) прессы, выставка имеет если и не материальный, то все же некоторый успех в публике. Мне же лично она послужила своего рода ободрением — ведь художник нуждается в таковом — почти даже в большей степени, когда он стар, нежели в молодых годах. И вот, когда подведешь себе такой своего рода итог, то как-то становится легче. Все же я кое-что на свете сделал... Впрочем, не обращайте внимания на сие самохвальство — это происходит не от самомнения, а от какого-то желания “оправдать свое существование”…
Париж.
Январь, 1956 г.
...до чего, глядя на тогдашние мои работы, мне становится грустно и больно, что я более не в состоянии в этом парадизе бывать и прогуливаться: слишком утомительно для нынешнего состояния моих ног проделывать те километры, что требуется для того, чтоб посетить любимые места!.. Какое это было сплошное блаженство, когда мы там жили всей семьей, когда у нас там был свой очаг, весь наш домашний уклад и главное, когда мы сами были молоды, полны сил... Привыкаешь к создавшемуся за последние годы положению, даже моментами кое-что и оцениваешь, кое-что тебя радует, но как подумаешь, что когда-то было и что безвозвратно, так холодеет душа, и спрашиваешь небо, к чему я еще болтаюсь по этой юдоли всяких печалей... И все же хотелось бы еще прожить достаточно времени, чтобы хотя бы увидать изданным продолжение моих воспоминаний, чтобы увидать, хотя бы в английском переводе (раз не найти русского издателя), свой, небезынтересный в разных смыслах Дневник 1916 — 1918 годов, и чтоб хотя бы немного продвинуть писание дальнейших моих сувениров и довести свой рассказ до моего участия в Художественном театре, в Русских балетах и до того момента, когда мы покинули Россию <…>
Париж.
Январь, 1957 г.
Что же касается Левитана, то был он человек очаровательный — совсем в стиле своих картин! К сожалению, я имел мало случаев с ним общаться, ибо я познакомился с ним в 1896 году, вскоре затем уехал надолго за границу, а в 1900 году его уже не стало. Известие об его кончине привез мне на дачу (в Петергофе) Нестеров, и оно поразило меня как громом — вроде то, как семь лет до того, поразила меня смерть Чайковского… А “влюбился” я в искусство Левитана еще в 1890 году — тогда, когда появилась у передвижников его “Тихая обитель”, и с тех пор я остался ему верен. Тянуло меня на Передвижные выставки главным образом именно ожидание увидеть его картины (а также картины Серова, Коровина) и не только его единственную в своем роде искренность и поэтичность, но и ясную простоту его красок, красоту, сочность его живописи <…>
До того заели здесь всякие теории, до того всемогущ снобизм, до того люди просто разучились смотреть! Долго ли такое положение продлится, я совсем не знаю (а хотелось бы узнать), но все же не покидает мечта, что через два три поколения в художественном мире воскреснет интерес к подлинному во всем его чудесном многообразии. Даже историю искусства ныне все более уродуют в угоду с одной стороны схоластике, так называемой Kunstwissenschaft (или Stilkritik [Искусствоведения или критики стилей (нем.).]), с другой — абракадабры всяческих параболических измышлений. От многого подчас просто тошнит. И грустно, грустно становится при виде, как и самые милые юные существа уже в корне отравлены!
Париж.
Март, 1958 г.
Прилагаю при сем свое произведение и “льщу себя надеждой”, что оно Вас не слишком разочарует. Представляет же собой эта картина антрактовый занавес балета “Петрушка” и изображены на ней, среди лунного, безмолвного петербуржского <ночного вида> масляничные балаганы, которые в дни моего детства строились под самым боком Исаакия, на месте ныне занимаемом Александровским (так более не называющимся) садом. В сей версии, созданной мною для Лондонского Covent Garden, я вернулся к своей первоначальной, в свое время неосуществленной, идее, тогда как за все эти годы полувекового существования моего (пополам со Стравинским quant au sujet [В отношении сюжета (франц.).] балета, я для разных постановок in the world [Во всем свете (англ.).] изображал на занавеси то чародея, сидящего на облаках, то полет всякой чертовой погани, мчащейся над спящим Петербургом… И вот, судя по успеху у публики данной версии, оную можно считать наиболее удачной. Буду рад, если и Вам она понравится.
В общем же все здесь обстоит по старому. Прибавлю при этом: не завидуйте… нам, “имеющим счастье” пребывать в Ville Lumiere. Эта Ville Lumiere сильно за последние годы потускнела. Несомненно, самосознание всего человечества в целом сильно омрачилось с тех пор, как оно вступило на путь (короткий ли? длинный?) самоуничтожения. Ах, как бы куда-либо выскочить. Как бы вернуться к золотым дням нашей молодости. Даже Лувр, если и утешает, то одновременно и злит — потому что все в нем перевешано, переставлено, и не к лучшему, а к гораздо худшему. Ходишь по залам как потрясенный, проклиная современных “музееведов”. Лично я, от скуки, занялся приведением в порядок моих разных коллекций, но и это, оказывается, в своем ощущении суетности более утомительным, чем утешительным…
Париж.