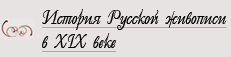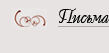Выставка Шагала
Ну что же? Должен сознаться — c'est captivant. [Это чарующе (франц.).] Ничего не поделаешь. Это то искусство, которое как раз мне должно претить в чрезвычайной степени. Это то, что во всех других сферах жизни я ненавижу (я еще не разучился ненавидеть), с чем я, несмотря на всю свою душевную усталость, еще не могу примириться — и все же это пленит, я бы даже сказал — чарует, если держаться точного смысла этого слова. В искусстве Шагала заложены какие-то тайные чары, какое-то волшебство, которое, как гашиш, действует не только помимо сознания, но и наперекор ему <...>
Шагал удостоился премии Карнеги. Это уже своего рода мировая consecration. [Признание (франц.).] Но и до того он вот уже десятки лет принадлежит к тем художникам, имена которых получили всесветную известность, про которых критики не пишут иначе, как пользуясь готовыми штампованными формулами, а это является выражением величайшего почитания. Шагал настоящая ведетта, вроде, ну скажем, Чаплина. И эта признанность может считаться вполне заслуженной. Он действительно подошел к эпохе, он шевелит в людях такие чувства, которые почему-то тянет испытывать. Можно еще найти в этом искусстве элементы бесовского наваждения или действия сил нечистых, однако об этом говорить не позволяется, а если разрешается, то не иначе как в ироническом тоне, или как о некоей “аллегории”. Несомненно есть что-то общее между творчеством Шагала и творчеством всяких художников — демониаков средневековья, часть которых упражнялась в “украшении” священнейших соборов всякой скульптурной чертовщиной, другая окружала миниатюры молитвенников самыми безрассудными и столь ехидными гримасами. Той же чертовщиной увлекались такие великие мастера живописи, как Босх или старший Брейгель, как Шонгауэр и как Грюневальд, — и со всеми ими у Шагала есть по крайней мере то общее, что он всецело подчиняется произволу своей фантазии; что он пишет то, что в голову взбредет; что он вообще во власти чего-то такого, что не поддается какому-либо разумному определению. Однако просто от вздора и шалости и от бредового творчества сумасшедших творения Шагала отличаются именно своими подлинными чарами.
Нынешняя выставка (открытая в галерее Май, 12, рю Бонапарт) лишний раз подтвердила во мне мое отношение к искусству Шагала (я был одним из первых, кто четверть века назад оценил это искусство), и в то же время она рассеяла прокравшееся в меня сомнение; не снобичен ли Шагал; не стал ли он шарлатанить, не превратился ли он, толкаемый к тому успехом, в банального трюкиста, который торгует тем, что когда-то давало ему подлинное вдохновение? Такие вопросы могли вполне естественно закрасться в душу, так как репертуар Шагала все такой же ограниченный, и он только и делает, что повторяет одни и те же темы.
Так и на данной выставке мы снова увидели все тех же летающих бородатых иудеев, возлежащих на диване любовников, белых невест, акробатов, нежных эфебов с букетами, порхающих ангелочков, согбенных жалких скрипачей, и все это вперемежку с какими-то музицирующими козлами, с гигантскими курицами, с телятами и апокалиптическими конями. Да и в смысле фона это опять то же черное небо с разноцветными ореолами светила, те же домишки грязной дыры из ужасного захолустья, тот же талый снег, или же рамы окон, зеленеющие кусты, стенные часы, семисвечники, торы. Меняется лишь расположение этих разнообразных элементов, и меняется формат картины. Видно, без иных из этих обязательных деталей художник просто не может обойтись, и они нет-нет да и пролезут в его композицию, которая ему кажется незаконченной, пока именно какой-либо такой козел-скрипач или крылатый вестник не нашли себе места.
Я шел на выставку без большой охоты, в предвидении именно этих повторений, успевших за годы моего знакомства с творчеством Шагала сильно приесться. Но вот эта новая демонстрация “упражнения с ограниченным количеством реквизитов” не только меня не огорчила, но она пленила меня, а, главное, не получилось от этого сеанса впечатления трюкажа или хотя бы до полного бесчувствия зазубренного фокуса. В каждой картине, в каждом рисунке Шагала все же имеется своя жизнь, а, следовательно, свой raison d'etre. Каким-то образом все это, даже самое знакомое, трогает; не является и сожаление вроде того, что “вот такой замечательный талант, а так себя разменивает, так себя ограничивает”. Шагал просто остался верен себе, а иначе он творить не может. Но когда он берется за кисти и краски, на него что-то накатывается, и он делает то, что ему велит распоряжающееся им божество — так что выходит, что вина божества, если получается все одно и то же.
Но только божество это, разумеется, не Аполлон. Самое прельстительное и безусловно прельстительное в Шагале, это — краски, и не только их сочетание, но самые колеры, каждый колер, взятый сам по себе. Прелестна эта манера класть краски, то, что называется фактурой. Но и эти красочные прелести отнюдь не аполлонического происхождения. Нет в них ни стройной мелодичности, ни налаженной гармонии, нет и какой-либо задачи, проведения какой-либо идеи. Все возникает как попало, и невозможно найти в этой сплошной импровизации каких-либо намерений и законов. Вдохновения — хоть отбавляй, но вдохновение это того порядка, к которому художники, вполне владеющие своим творчеством, относятся несколько свысока. Почему не быть и такому искусству, почему не тешиться им? Тешимся же мы рисунками детей или любителей, наслаждаемся же мы часто беспомощными изделиями народного творчества — всем тем, в чем действует непосредственный инстинкт и в чем отсутствует регулирующее сознание. Мало того, этим наслаждаться даже полезно, это действует освежающе, это дает новые импульсы. Но аполлоническое начало начинается лишь с того момента, когда инстинкт уступает место воле, знанию, известной системе идей и, наконец, воздействию целой традиционной культуры.
Это все и почиталось до начала XX века настоящим искусством; с историей этого искусства знакомят нас музеи, и из-за такого искусства эти музеи приобрели в современной жизни значение бесценных хранилищ, чуть ли не храмов. Мы общаемся в них с высочайшими и глубочайшими умами (хотя бы эти умы и выражались подчас в очень несуразных, странных формах, а то и просто снисходили до шутки, до балагурства). Но странное впечатление будут производить в этих же музеях картины Шагала и других художников, рожденные нашей растерянной, не знающей, a quel saint se vouer [Какому святому поклониться (франц.).] эпохой. Выражать свою эпоху они, разумеется, будут и будут даже делать это лучше, нежели всякие картины более разумного и трезвого характера, или же такие картины, которые выдают большую вышколенность. Однако я сомневаюсь, что будущие поколения преисполнятся уважения к нашей эпохе после такого ознакомления с ней, и станут на нас оглядываться так, как мы оглядываемся на разные пройденные фазисы человеческого прошлого — с нежностью, с умилением, а то и завистью. Люди благочестивые среди этих будущих (сколь загадочных!) поколений, вычитывая душу нашего времени из этих типичнейших для него произведений (из живописи Шагала, среди многого другого), скорее почтут за счастье, что подобный кошмар рассеялся, и обратятся к небесам с мольбой, чтобы он не повторялся.
Мне хочется выделить одну из картин на настоящей выставке Шагала. Если она не менее кошмарна, нежели прочие, если она и очень характерна для Шагала, если и в ней доминирует импровизационное начало, то все же она, как мне кажется, серьезнее всего прочего, она, несомненно, выстрадана, и чувствуется, что, создавая ее, художник, вместо того, чтобы прибегать к привычному творческому возбуждению, имеющему общее с кисловато-сладостной дремотой, был чем-то разбужен, не на шутку напуган и возмущен. Несомненно и то, что поводом к созданию этого видения были реальные события <…> Однако самый смысл представленного символа мне непонятен. Почему именно бледный труп пригвожденного к кресту Христа перерезает в белом сиянии наискось мрак, разлитый по картине?! Непонятны и разные другие символы (непонятны именно в качестве символов), что разбросаны по картине. Однако в целом это “видение” поражает и подчиняет внимание. Следует ли толковать присутствие Христа, как луч надежды? Или перед нами искупительная жертва? Или же сделана попытка обличения виновника бесчисленных бед? Считали же иные что все беды, обрушившиеся на человечество за долгие века христианской эры, — прямые плоды того учения, которое, проповедуя милость и любовь, на реальном опыте повлекло за собой более жестокие и злобные последствия, нежели все, ему предшествовавшее.
Как решить задачу, я не знаю. Картина сама по себе не содержит ответа, а обращаться за изустными комментариями к самому творцу (если бы он пожелал их дать) я не намерен. Но одно, во всяком случае, остается бесспорным. В картине “Христос” представлено нечто в высшей степени трагическое и такое, что вполне соответствует мерзости переживаемой эпохи. Это — документ души нашего времени. И это — какой-то вопль, какой-то клич, в этом и есть подлинный пафос! Быть может, эта картина означает и поворот в самом творчестве Шагала, желание его отойти от прежних “соблазнительных потех”, и в таком случае можно ожидать от него в дальнейшем других подобных же откровений. Шагал — художник подлинный, и то, что он со всей искренностью еще скажет, будет всегда значительно и интересно.
1940 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки:
Купить мухоморы jivas.shop/product/myxomor100/.
Самая актуальная информация тайский массаж на нашем сайте.