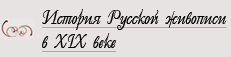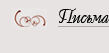Константин Гис
И на сей раз оказывается, что излишек вреден. “Консекрация” [Франц. consecration — признание.], которой удостоен Константин Гис в Музее декоративных художеств (павильон Марсан), едва ли окажет его памяти ту пользу, на которую рассчитывали его поклонники, устроившие выставку его произведений. Разумеется, те, кто когда-то его “открыли”, а открыв, превознесли скромного мастера в качестве чуть ли не самого яркого выразителя своей эпохи, эти поклонники останутся при своем мнении, и для них выставка послужит только лишним доказательством правоты их мнения. Вся садовая анфилада музея сплошь заполнена рисунками и акварелями Гиса — разве самый факт такой обильной выставки не является лучшим доказательством, что, поверив “аттестату”, выданному в свое время Гису Бодлером, поклонники мастера не ошиблись? Разве не лестно для их сознания, что это они таким образом способствовали исправлению вящей несправедливости и своей “агитацией” помогли вытащить забытого было художника на самый первый план. Однако люди, не состоящие в рядах таких поклонников, не ослепленные тем, что есть в культе Гиса фанатического, неминуемо должны взглянуть на данный “экзамен” несколько иначе и, соглашаясь с тем, что Гису следует уделить достойное место на Парнасе, все же не могут иначе отнестись к данной “демонстрации” как к чему-то, в своем преувеличении совсем тактичному”.
Гис бесспорно милый и любопытный художник. Он характерен для своего времени, а временем его следует считать эпоху, более чем в тридцать лет, начинающуюся около 1840 года и кончающуюся в середине 1870-х годов, иначе говоря, эпоху, которую французы grosso modo [Грубо говоря (итал.).] называют second empire [Вторая империя (франц.).], а англичане — victorian. [Викторианской (англ.).] Нечто от самого esprit [Духа (франц.).] этой эпохи действительно живет в его творении. Разглядывая его рисунки, покрашенные акварелью, угадываешь многое такое, что было когда-то типичным и что с тех пор как-то испарилось, исчезло из жизни и заменилось другими особенностями, опять-таки представляющимися характерными для своего времени. Наконец, нельзя отказать этому “графику-журналисту” в известной технической ловкости и в приятности выработанной им системы быстрых, как бы на ходу делаемых заметок. Все это чисто по-французски изящно, элегантно, остроумно. Остроумным, блестящим, но и легкомысленным парижанином Гис оставался и тогда, когда, годами живя в Англии (где он состоял штатным сотрудником “Illustrated London News” [“Иллюстрейтед Лондон Ньюс” — английский иллюстрированный журнал.]), изображал лондонские улицы или когда, попав на Ближний Восток, заносил в свои альбомы все то, что поражало его на берегах Босфора и Черного моря. Но, как ни любить “пенистость” характерно французского остроумия, как ни наслаждаться типично парижской находчивостью, все же не следует путать понятия и не надо забывать, из чего складывается этот блеск или, вернее, чего он является отблеском. Достаточно нелепо возводить Гиса в степень какого-то художественного гения, а забавное, игривое, пикантное его творчество считать за большое, за глубокое искусство. Когда же к увлечению фанатиков примешивается еще коммерческий ажиотаж и светский снобизм, то абсурд получает уродливый оттенок. Последнее особенно печально, когда подумаешь, какую полную лишений жизнь прожил сам художник, охотно сеявший свои безделушки где попало и абсолютно не считавший, чтоб они стоили большого внимания.
За невозможностью (по скудости биографических сведений и датированных произведений) хотя бы приблизительно представить хронологию творческого пути Гиса устроители выставки расположили собранное из разных мест творение по сюжетам, озаглавленным: церемонии и общественная жизнь, женщины и девицы, экипажи и лошади, жизнь военных, Крымская кампания, Турция, Испания, Италия, разное. Номенклатура обещающая, и, если бы действительно под каждой рубрикой скрывалось нечто очень существенное. Гис действительно был бы очень значительным художником. На самом же деле все это пустяки — довольно меткие, схваченные на лету нотатки [От франц. noter — делать заметки.], в которых действительно острое наблюдение и документальная точность отсутствуют вовсе.
Насколько выставка, разбитая на такие же отделы, представляла бы больше содержательности, была бы более поучительной и в то же время более волнующей, более эпошистой и художественной, если бы вместо произведений Гиса она содержала произведения Гаварни, Домье, Гранвиля, Лами и Монье. Как раз именно эти имена (оставляя в стороне еще многих англичан) и возникают в памяти, когда переходишь от одного рисуночка Гиса к другому, и, несомненно, примеру всех этих собратьев по искусству Гис обязан весьма многим в своем развитии, в усвоении всех тех элементов, из которых сложилось его творчество. При этом надо признать, что большинство этих художников, с поразительной полнотой отразивших свое время, остались для Гиса образцами недосягаемыми. Гис так и не освободился от замашек известного любительства. С другой стороны, как раз эта черта любительства скорее помогла его посмертной славе, — это она и делает его tres moderne [Очень современным (франц.).], это она приблизила его к парадоксальным требованиям наших дней. В Гисе не шокируют современный глаз “школьность”, “выучка”, “правильность”. Его недоговоренность позволяет каждому добавлять своего посредством известного самовнушения, выискивать то, чего часто и нет на самом деле. Внушить же себе можно что угодно.
Но оставим пока вопрос, насколько Гис сейчас переоценен, а воспользуемся тем, что нам его показывают в таком обилии, чтобы полюбоваться его творчеством. В конце концов, от нас зависит: остановиться лишь на самом интересном, проходя мимо бесчисленных вариаций и повторений на ту же тему, и вот эти “остановки” на выставке окажутся достаточно частыми. Изучение каждого наброска не требует особенной затраты внимания. Все это, на лету созданное, обладает свойством как-то скользить и проноситься, но в чем никак нельзя отказать Гису, это в какой-то абсолютной искренности, что, в связи с его вкусом и с его сноровкой, создает нечто приятное и интересное.
Лучше всего Гису удавались женщины и лошади — странное сопоставление, но несомненно отвечавшее его коренным симпатиям или, если хотите, его слабостям. Не реже, нежели у Тулуз-Лотрека, у Гиса встречаются особы весьма сомнительной нравственности или даже специфические сборища таких особ, среди которых художник чувствовал себя “как дома”. В этом сказываются его личный темперамент и жизненный вкус типичного парижанина. Приобщение же к лондонским нравам развило в нем и интерес к лошади, что опять-таки сближает его с Лотреком, с той только разницей, что почему-то особенно Гиса интересовала не состязающаяся на скачках лошадь, а лошадь запряженная — будь то в легкое тильбюри, в изящное купе или же в монументальную парадную карету с ливрейными лакеями на запятках. Надо, впрочем, тут же вспомнить, что то время не только можно назвать temps des equipages” [Время экипажей (франц.).], но оно является эпохой самого блестящего расцвета всей “культуры выезда”.
Один из поклонников искусства Гиса указывает на полную аналогию, якобы существующую между “Education sentimentale” [“Сентиментальное воспитание”, в других перевода “Воспитание чувств” — роман Г. Флобера.] и творением Гиса. К каждому эпизоду прекрасного произведения Флобера он подыскивал соответствующую иллюстрацию среди рисунков нашего художника, и это несмотря на то, что намерения художника были несомненно очень далеки от намерений романиста. Однако уж если искать параллели искусству Гиса в литературе, то можно было бы найти их среди писателей более мелкого разбора. Лучшее что создано Гисом, — это серия гризеток, но эти привлекательные в своих простеньких платьицах, в своих чепчиках и передничках особы скорее напоминают героинь Поль де Кока, нежели героинь Мюссе, Мюрже или Сю. Об их душевной и сентиментальной жизни ничего не скажешь, самые лица их всегда схематичны, но позы и жесты этих “прелестных дурнушек” дышат энергией и независимостью. Это отнюдь не участницы каких-либо сложных историй с печальной или трагической развязкой, это всего только неутомимые танцорки публичных балов и великие любительницы до пикников на скатах фортифов [Сокращение французского слова fortifications, обозначающего укрепления, в данном случае остатки окружавших Париж валов, излюбленное место прогулок парижских низов.]. Гис в молодые годы чувствовал к ним особое влечение и должен был проводить в их обществе приятнейшие минуты. Образ этих простеньких чаровниц так пленил его, что даже после переселения художника на берега Темзы они ему чудились, и он охотно вкладывал шарм и грацию сереньких парижских нимф в изображения тех ночных гетер, которых в сопровождении объемистых мамаш, облаченных в шотландские пледы, он встречал на тротуарах Лондона.
Позже у него появляются совершенно иные “идеалы”, более соответствующие предвзятому представлению об “оргиях Второй империи”. Расфуфыренные лоретки и биши скользят мимо нас, шурша своими шлейфами, или же мы проникаем вместе с художником во всякие “закрытые дома”, в которых Эрос находится на службе у общественного темперамента. Наивная грация и пикантность мира гризеток здесь отсутствуют — все говорит лишь о чем-то безусловно уродливом, и говорит в довольно циничных формах. Как документы изменившихся общественных вкусов эти культурно-исторические картинки ценны, но как художественные произведения они куда менее пленительны, нежели то, с чего начал Гис и в чем образцами ему служили чудесные произведения художников, до него “открывших гризетку”, — главным образом Тассар и Морен.
Как культурно-исторические документы очень интересна вся серия рисунков Гиса, посвященных театру. Был ли он сам завсегдатаем того, что у нас в России называлось бельэтажем, весьма сомнительно, скорее он наблюдал этот недоступный для него мир из партера или из верхних ярусов, но именно это “любование через бинокль” придает его многочисленным вариантам на тему “premieres loges” [Первые ложи (франц.) — соответствует нашим ложам бенуара.] особенную романтику, романтику чего-то далекого и тем более манящего. Впрочем, самый любопытный из рисунков этой серии художник набросал, по видимому, находясь в оркестре. Какая-то певица распевает арию, стоя у самой рампы, но тут же рядом на подмостках сцены стоят, вытянувшись в струнку, два кирасира cent-gardes [Название личной гвардии Наполеона III, состоявшей из ста гвардейцев (франц.).], оберегающие тех, кто, уткнувшись в два противоположных угла ложи, удостаивают своим высочайшим присутствием спектакль. Усталый Napoleon-le-Petit [Наполеон Маленький — прозвище Наполеона III (франц.).] как-то завалился зa барьер, тогда как не менее скучающая красавица-императрица соблюдает конвенансы [Французское слово convenances — приличия.], нисколько не тяготясь тем, что общее внимание зала, вероятно, больше обращено на нее, нежели на представление.
Едва ли участником был Гис и тех “дефиле [Французское слово defile — следование. Здесь употребляется как “парад элегантностей”.] элегантностей”, которые на Елисейских полях и по Avenue du Bois [Название главной аллеи Булонского леса в Париже (франц.).] составляли одну из главных приманок Парижа — тогдашнего безусловного законодателя моды для всего света. Но, присевши где-то во втором ряду наемных стульев, художник все же оказывался в самой гуще этого уличного, каждодневного (в хорошую погоду) праздника. Расположившись в тени деревьев, как у себя дома, дамы в кринолинах и с иголочки одетые “господа” в цилиндрах составляли необычайно декоративный первый план, из-за которого как-то особенно эффектно должно было казаться мелькание на солнце непрерывной процессии викторий и ландо, блеск упряжек и ливрейных галунов, цветистое сверкание крошечных зонтиков и шляпных лент. Той же теме посвятил несколько эффектных листов Гюстав Доре, очень характерно передавали ее и те раскрашенные литографии, которые изготовлялись в Париже для рассылки по всем столицам Европы, но в передаче знаменитых retour du bois [Возвращение из леса (франц.).] Гиса, при всей тусклости его туши и при ограниченности его красок, есть своя прелесть. Не благодаря ли именно этой тусклости и этой бескрасочности его видения старого Парижа похожи на сны, и внимание, не дробясь на разглядывание всяких деталей, более усваивает себе в них поэзию этой, успевшей уже стать глубокой, старины?
1937 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: