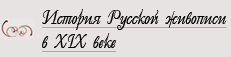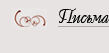Выставка Греко
картина6
Еще одно “событие” в художественной жизни Парижа без того уже столь насыщенной в этом году. И событие — первого разряда, ибо оно возбуждает не только интерес специалистов, занятых прошлым искусства, но должно взволновать и более широкие круги. Ведь la question Greco [Проблема Греко (франц.).] обладает чуть ли не злободневным характером. Целых три века Доменико Теотокопули, прозванный Греко, находился в забвении и был заслонен другими художниками раннего барокко; коллекционеры и музеи пренебрегали им, историки искусства лишь мимоходом касались его творчества. А затем, в конце 1890 года, его “открывает” Карл Юсти, и он как-то внезапно выдвигается на самый первый план, постепенно превращаясь в “общего любимца” и (рядом с Сезанном) в какого-то руководителя наиболее передовых художников.
Парижу особенно было важно увидать целый значительный ансамбль творений Греко, ибо как раз в Париже, где более всего о нем говорили, на самом деле меньше всего его знали. Оригиналы художника появлялись здесь до странности редко, а те картины, коими мастер представлен в главном музее Франции — в Лувре, скорее разочаровали тех, кто страстно мечтал познакомиться непосредственно с творчеством художника, о котором они успели начитаться всевозможных литературных характеристик, зачастую принимавших оттенок исступленных дифирамбов. И вот потребность в познании Греко теперь до известной степени удовлетворена. Настоящая выставка, в основе которой лежат девять картин из собрания румынского короля, если и не отличается исчерпывающей полнотой, то все же дает ясное представление об этом властителе современных дум.
Все эпохи творчества Греко, все его манеры, все главные его темы (повторявшиеся им в бесконечных вариантах) на ней представлены. Не содержит выставка, к сожалению, ни пейзажей Греко (их всего насчитывается два — но как раз обе эти картины представляют собой особенный интерес), ни тех его шедевров, для которых главным образом предпринимались поклонниками искусства Греко паломничества в Толедо и Эскуриал. Однако и о толедском El Espolio [Речь идет о “Христе на Голгофе” (El Espolio) Сакристии собора в Толедо, “Погребении графа Оргаза” в церкви Сан-Томе там же, “Сне Филиппа и “Мучении св. Маврикия” во дворце-монастыре Эскуриала.], и об эскуриальском святом Маврикии можно получить известное представление на выставке, так как обе композиции украшают ее — в повторениях (значительно уменьшенного размера), принадлежащих кисти мастера. Вообще же на выставке в галерее Вильденстэна имеются отличные образцы и религиозных картин мастера и его портретов, принадлежащих к разным периодам его жизни. [Годом рождения Греко считается приблизительно 1547 год. Умер мастер в Толедо 8 апреля 1614 года.] Имеется даже одна картина полужанрового характера, представляющая, по всей вероятности, семью его сына Мигеля, и если нельзя быть совсем уверенным в том, что в данном случае мы имеем вполне coбственное произведение самого Доменико, то странная, совершенно реалистично трактованная картина эта все же представляет исключительный интерес, ибо она вводит в интимный круг художника, знакомит нас с самыми близкими к нему лицами, среди которых почетное место занимает и большой серый кот. [К достоинствам замечательной выставки в галерее Beaux-Arts относится и необычайно парадный, богато иллюстрированный каталог, документальная часть в котором принадлежит нашей соотечественнице — г-же Асе Рубинштейн.]
Почему, однако, Греко стал “властителем” дум нашего времени, почему он не только “пришелся как-то по вкусу”, но и отвечает более глубоким запросам встревоженной современной души? Даже если признать, что в этом культе Греко есть много снобизма, то все же его нельзя объяснить одним только воздействием модного каприза. Культ Греко при этом носит двоякий оттенок. В нем сказывается и чисто художественное увлечение. Греко пленяет своеобразностью своих технических приемов, смелостью своих красок, а то и их странной скудностью, главным же образом, он нам близок в своем нежелании подчиняться каким-либо канонам и школьным формулам. Однако, в еще большей степени Греко покоряет духовной стороной своего творчества, тем, что все оно пропитано каким-то внутренним горением, что оно по самому своему существу экстатично и как бы находится в непрестанном усилии вырваться из тисков простой жизненной прозы. Уж если какая живопись может назваться поэтичной, то это именно живопись Греко, и несомненно в этом причина того, что ею особенно увлеклись литераторы — люди, для коих живопись не столько какая-то чарующая игра форм, линий и красок, сколько одно из могущественных средств выражать поэтические мысли и настроения.
Во всей истории искусства не найдется художника, который так бы распахивал душу, так патетично сострадал мукам Спасителя, так умиленно сочувствовал раскаянию святых подвижников, так пламенно мечтал приобщиться к радостям их экстаза. В стране, только что давшей святую Терезу и святого Иоанна “Крестоватого”, этот случайно попавший в Испанию [Метэки — переселенцы, чужеземцы, проживавшие в древней Греции без прав гражданства и платившие налоги.] выразил в искусстве их же идеалы, их же помыслы, их же душевные муки. В его искусстве не найти суетных прельщений. Оно от природы аскетично. Красота и декоративность, все же присущие искусству Греко (как присущи они и названным радетелям веры), как будто попали в его искусство помимо его воли.
При этом искусство Греко носит определенно фантастический ирреальный характер. Но одинаково фантастично и то, что мы все еще по-прежнему почти ничего не знаем о нем самом. Как случилось, что этот кандийский уроженец, исповедовавший, вероятно, на родине Греко православную веру, изменил религии отцов? Что побудило его переселиться в Венецию? Каким образом он обменял неподвижные приемы иконописца на бурную свободу в духе Тинторетто? В точности мы не знаем и того, был ли Греко учеником Тициана, Тинторетто или Бассано. Да и почему и когда он покинул Италию и поселился в Испании? Что заставило Греко выбрать своим местопребыванием Толедо, а не Севилью или Мадрид, и как он, чужеземец, смог ужиться в совершенно новой для него среде, превратившись даже в самого убедительного выразителя идеалов новой родины? Трудно себе объяснить и то, почему этому “безумцу” удалось уберечься от цензуры и преследований инквизиции и по какому поводу к нему обратился Филипп П. Греко, однако, не угодил королю — тогда как Филипп, казалось бы, должен был встретить именно в нем воплощение своих религиозных помыслов, мечтаний и порывов. Все в Греко остается тайной, и за исключением нескольких отрывистых сведений, двух-трех анекдотов, самого его обиталища в Толедо (ныне превращенного в музей имени Греко) и инвентаря имущества, составленного после смерти, существование его подернуто непроницаемой завесой.
Смущают и многие картины художника. Так, например, мы не знаем, что в точности означает “Сон Филиппа — этот тяжелый религиозный кошмар, в котором в странной близости на первых местах оказываются коленопреклоненный монарх-фанатик и раскрытая пасть геенны огненной? Кошмаром представляется и св. Иоанн на Патмосе — в припадке какого-то дикого отчаяния простирающий руки, его “Лаокоон” (единственный мифологический сюжет у Греко), и то сборище странно одетых, статных и изящных молодых воинов, что должно представлять мучение св. Маврикия. Характером странности, а то и вычуры отличается почти каждая картина Греко, но то, что художник эти свои странности повторял с неизменным упорством несколько раз, доказывает, что они во всяком случае не были случайными, а что в них надо видеть некую суть его намерений. Эта же повторность доказывает, что современники мирились со странностями Греко; мало того, ими, вероятно, художник решительнее всего действовал на их и без того уже распаленное фанатизмом воображение.
Особенный интерес на выставке представляет крошечный двухстворчатый и с обеих сторон расписанный складень, выставленный в отдельной витрине. Он недавно был найден в складе Моденского музея, и это его хранителю Родольфу Паллукини принадлежит заслуга его опознания. Несомненно, перед нами самое раннее из дошедших до нас произведений Греко, и в нем без натяжки находишь кое-какие следы иконописной манеры. Чем-то складень напоминает изделия так называемой итало-критской школы, в которой элементы западные и восточные сливаются воедино. Но обыкновенно в этих иконах все же восточное традиционно византийское начало преобладает над западным, над “свободой” живописного Запада. Здесь же наоборот. Лишь издали — общая золотистость, обилие охры, звучно-цветовые контрасты при крайней ограниченности палитры и особенно типичные иконописные “пробелки” — дают иллюзию, что перед нами итало-византийская живопись.
Вблизи же иллюзия рассеивается, и мы констатируем, что это типичное произведение барокко, что это Греко <...>
Новый этот живописный язык стал затем для Греко на всю его жизнь тем языком, на котором он изъяснялся без малейшего затруднения совершенно свободно, и он уже никогда не возвращался к своим первоисточникам. От своего восточного происхождения у него оставалась лишь привычка подписываться греческими литерами, что он и производил довольно демонстративно, как будто “гордясь” своим заморским происхождением. Все же остальное в его искусстве есть та самая формальная система, которую мы теперь называем барокко и которая, как всепожирающий пламень, разлилась по Европе, достигнув даже далекой Московии, где задолго до реформ Петра I ею была подорвана незыблемость древних устоев. Иные пытаются различить и в поздних произведениях Теотокопули — византийца. Они видят черты иконописности даже в таких, ни на что другое не похожее, картинах, как гениальное “Рождество Христово” (№ 3 на выставке — из собрания короля Кароля), или как “Сошествие св. Духа”, или как “Крещение” (один из вариантов — на выставке под № 43). Другие не прочь находить черты сходства Греко с мозаиками Царьграда и Солуни в типах голов, в этих удлиненных ликах, с их таящими внутренний огонь “глазищами”, коими мастер наделил бесчисленные серии своих апостолов. Однако, во всей этой погоне за византийством Греко действует больше воображение и предвзятость. Что же касается до образцов этих ликов, то зачем в поисках их идти дальше Венеции и венецианской живописи XV и XVI веков?
Если же что и вложил новое в эти венецианские измышления Греко, то это нечто суровое, пустынное, как бы отблеск, отражение самой души Испании — того, что больше всего поражает в каменном пейзаже Испании и, в частности, в той Фиваиде, среди которой лежит Толедо. И если вглядываться в портреты Греко, то убеждаешься, что той же “пустынной суровостью” было напитано и все окружавшее его общество, для которого вопросы веры господствовали над всеми другими и для которых зрелище пылающих костров ауто-да-фе представлялось чем-то угодным господу.
1937 г.
Читайте также...
Партнёрские ссылки: